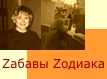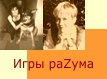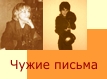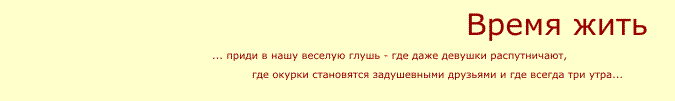|
ПРОГУЛКИ С БРОДСКИМ
Данный текст представляет собой содержание документального фильма «Прогулки с Бродским» (в последний день рождения Бродского –24 мая 1995 года - этот фильм был удостоен главной российской телевизионной премии ТЕФИ), а также ленты «Прогулки с Бродским II. История съемок».
***
Используются сокращения:
Иосиф Бродский –ИБ
Евгений Рейн (поэт, друг Бродского) – ЕР
Авторы фильма –Елена Якович и Алексей Шишов – А
ИБ:
«…Когда так много позади
всего, в особенности - горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
и глубже. Это превосходство -
не слишком радостное. Но
уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит»
Фильм первый. "Набережная неисцелимых"
ИБ: Ну, Женюра, ты выдержишь это, да? Рождественский романс. Этим стихам я сейчас скажу сколько…этим стихам 32 года. 61-ый год. 32 года назад. Так что я не несу никакой ответственности за содержание.
Рождественский романс. Евгению Рейну с любовью.
(читает:
«Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной кораблик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих…
***
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево»
…
ЕР: Вместо кафе какой-то ресторан…
ИБ: Я не знаю, по-моему, это все-таки...это ресторан, это все переменилось, видимо. Кофе…Сейчас. я пойду узнаю. Do you speak English?
-Yes.
-Can I have coffee?
-Sure
-Lovely.
…Только вот этого не надо, потому что они запротестуют, я думаю (про съемки и камеру)
А: Мы сидим сейчас на набережной неисцелимых…
ИБ: Практически
А: А в действительности?
ИБ: В действительности в двух шагах.
А: Почему все-таки набережная неисцелимых?
ИБ: Ну я не знаю. Дело в том, что ….эээ..почему она так называется...Я не помню, я ведь, по-моему, писал про это. Дело в том, что здесь эта церковь, которая была воздвигнута в благодарность, как бы сказать, за избавление от чумы. И здесь несколько госпиталей было, где, значит, либо приходили в себя, либо помирали. И когда с ними уже ничего нельзя было поделать, их выносили и на этой набережной они доходили и потом их отвозили на кладбище и так далее и так далее. Я помню, как я впервые это увидел. Я просто шел…я вышел после разговора с вдовой довольно знаменитого американского поэта, которая действительно до известной степени сама неисцелима, как и он был неисцелимый. Это такие…то есть это фашиствующие господа. Вот. И вдруг я увидел, что стою на набережной неисцелимых и, в общем, это наложилось. Вот. То есть наложилось - и видимо поэтому я решил назвать - потому что в конце концов это относится…
ЕР: Это хорошее название…
ИБ: …Это хорошее название. Кроме того, это относится, в общем, к человеку, который…то есть к людям, с которыми ничего нельзя поделать. И мы все такие.
***
ИБ:… Самые гениальные стихи, по-моему. Это, по-моему, одни из самых гениальных его стихов. Баратынский. Финляндия. Поразительно, что в этом господине было, да?
ЕР: Да. Но я недавно прочел, что он был абсолютно безграмотный.
ИБ: Кто?
ЕР: Баратынский.
ИБ: Это с какой же стати?
ЕР: Он не знал знаков препинания полностью.
ИБ: Это с какой же стати?
ЕР: Это Дельвиг совершенно гениально, кстати… Все стихи Баратынского переписывала жена Дельвига для печати.
ИБ: Погоди. Каким же образом?
ЕР: Да они были ближайшие приятели. Он присылал, а Дельвиг их сдавал в литературную газету.
ИБ: Нет…но Дельвиг рано довольно умер.
ЕР: В 29 году.
ИБ: Да. А Баратынский в 44-м.
ЕР: Одну секунду. Но тебе известно… они долгое довольно время жили в одной комнате на Загородном проспекте.
ИБ: Да, в самом начале, когда им обоим было лет по 19-20-21.
ЕР: Да. И до 29-го Дельвиг же издавал литературную газету, и я тебе просто покажу завтра книгу, она у меня с собой.
ИБ: Нет, я согласен.
ЕР:…о том, что жена Дельвига переписывала все стихи Баратынского и спрашивала до какого места переписывать.
ИБ: Это полный бред, потому что …
ЕР: Ну как, я завтра покажу тебе…
ИБ: Это полный бред, потому что Баратынский – человек с совершенно замечательным, уникальным синтаксисом, ни у кого такого синтаксиса нет и…
ЕР: Обожди…
ИБ:… да, и человек, который пользуется таким синтаксисом, он знает препинание.
ЕР: А Ахматова не ставила знаки препинания. Она говорила: «А теперь расставьте запятые».
ИБ: Это ты, Женька, говоришь, как бы сказать, по касательной, в свое собственное оправдание, как я понимаю. Поразительный синтаксис. Знаки препинания (читает стихотворение Баратынского).
ЕР: Лосев считал, что Баратынский гораздо лучше Пушкина.
ИБ: То есть я думаю, что серьезнее, да. То есть, разумеется, на этом уровне иерархии нет, на этих высотах. Но дело в том, что всегда с нацией, с культурой всегда довольно комическая история – она всегда назначает одного великого поэта на эпоху, да. Происходит это по разным соображениям, но, прежде всего, потому, что если действительно всех читать, то тогда должно произойти то, чего ради поэзия и существует – то есть впасть от нее в зависимость – и в поведении и в мышлении и так далее и так далее и так далее. И поэтому существует форма самозащиты в виде системы образования, которая выбирает кого-то одного, наиболее, в общем, более или менее, я не знаю, я не хочу сказать удобоваримого…
ЕР: Так всегда было, ну там Гете
ИБ: Ну там Гете-Шмете и так далее и так далее. И происходит…На самом деле ведь что происходит? Рождается эпоха, плеяда возникает, вот с Александром Сергеевичем пришли, то есть Вяземский….Возникает плеяда, да, что за этим стоит? То есть некий умысел природы, чтобы позаботиться о духовном состоянии нации, дать ей все варианты, больше вариантов, а они выбирают одного….
***
ИБ: Это было в 72 году. Это на первую зарплату, которую я получил в этом самом Мичиганском университете, я купил билетик на самолет и прилетел в Италию. Пересадка была в Милане, я чуть не опоздал, и приехал сюда и, разумеется, первые семь дней (я провел здесь, по-моему, 12-14 дней), я был колоссально несчастен, да, потому что это город, в котором все время хочется показывать кому-то что-то. Не смотреть самому - с кем-то делиться, говорить и тыкать пальцем, не говоря о том, что здесь вообще все, то есть 90% людей, которые сюда приезжают, они приезжают сюда, в общем, как бы «склещенными» -они с кем-то приезжают.
И ты этому мучительно завидуешь, как будто тебе 16 лет снова или 15 или 14 и ты не понимаешь, как это происходит. Я здесь был абсолютно один и примерно 7 дней я ходил по этому городу в состоянии чрезвычайного…чрезвычайного, как бы сказать,…вельдшмерца. И на восьмой, я не помню, я проснулся, воскресенье, наверно, это было, эти колокола, знаете, как сервизы чайные, я тогда в стихах это написал. Ну неважно, стыдно. Вот. И я принялся сочинять стишки, и я уже ходил по этому городу, сочиняя стишки, и тогда все стало на свои места. И я помню, я болтался по этому городу, было наводнение, естественно, высокая вода, что называется, буквально тебе по колено, да, и ты идешь…- ну я ничего не знал, и совершенно случайно я набрел на эту площадь. Дикий совершенно был вечер, холодно, дождь, вода и по колено в воде подходишь, подходишь –и вдруг видишь вот это – и я его вспомнил – то есть сколько радости и счастья этот человек мне дал, да, в самых неподходящих ситуациях от чего избавил – и я стою перед церковью, в которой он был крещен, да (про церковь, в которой был крещен Вивальди).
***
ИБ:В 1977 году, если я не ошибаюсь, я был приглашен в Венецию на такое мероприятие, которое называется Биеннале. Темой этого Биеннале - у них разная тематика - в частности, было инакомыслие. Вот здесь, в третьем ряду, сидел теперь покойный Александр Галич, который умер, по-моему, через месяц или полтора после этого. Я в этом зале читал стихи - как бы сказать, моя роль была. Читать стихи. То есть это все неважно. Это все неважно. Это 77 год. Этого ничего нет, многих из этих людей нет в живых. Я вот еще жив. Сижу здесь.
Читает:
«Я входил вместо дикого зверя клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность»
***
ИБ: Самое интересное для русского человека в том месте, это не здесь, а вот у вас за спиной. Там находится кладбище Сан-Микеле, на котором лежат Стравинский и Дягилев. И этот канал ведет к этому самому Сан-Микеле.
Точнее сказать – «Туда уводит сей канал, куда Стравинский поканал», да. Вот.
А: Вам не жалко Советский Союз?
ИБ: Мне жалко молодости, но в общем вот этого сооружения громоздкого, которое называлось Советский Союз, а до этого Российская империя мне, в общем, не особенно жалко. Потому что я думаю, что то, что объединяет людей - это не политические и не административные системы, а это системы лингвистические. И русский язык как был средством имперским…имперского обвинения, так им и остался. Русский язык сыграл ту же самую, до известной степени, роль на протяжении последних двух-трех столетий, которую, скажем, сыграл когда-то греческий язык, и которую играет английский язык до известной степени на сегодняшний день. То есть империя распалась (британская, да), но английский язык, что называется, шествует по всему миру, что называется, даже я на нем говорю. Вот вам ответ на имперские дела.
То есть, если угодно, у меня действительно двойное имперское мироощущение, то есть основанное на английском и на русском или на русском и на английском. Меня можно назвать двуглавым орлом.
***
ИБ: По-моему, вообще это место связано с Востоком больше, чем какая-нибудь иная часть Италии. То есть торговые дела и так далее и так далее. То есть это же была империя, да. Венецианская республика и - то есть - территория везде, то есть половина Средиземного моря. То есть замечательные отношения были с Византией и так далее и так далее, пока они в каком-то там 17, в 18 веке, в конце 17-го, не начали расстраиваться и расстроились очень сильно. Потому что появился Дон Хуан Австрийский, чтобы все это привести в порядок, но тогда уже упало могущество и все остальное.
Здесь ничего особенного нет. Это уже типично итальянские дела. Это скорее восточная сторона Италии, которая главное, что она производит, – Неаполь и южная Италия – больше всего они производят мокрые простыни, да, которые сушатся и так далее и так далее.
***
ИБ дарят книгу.
А: К сожалению, она на итальянском.
ИБ: Она на итальянском, но мы ее прочтем.
А: Она как раз об итальянской живописи в Петербурге.
ЕР: Не живописи, а архитектуре.
ИБ: То есть Росси, Растрелли, Кваренги…
ЕР: Да.
ИБ: То есть это вы мне…а замечательное издание! боже. Во-первых, со вкусом колоссальным все сделано. Этторио Рогатто!(имя нечетко) Ну, вы знаете, кто он был такой, да?
ЕР: Знаменитый славист итальянский. Друг поэта Клюева. Он умер в 36-м.
ИБ: Да. Анна Андреевна его обожала.
ЕР: Да. Он вывез стихи Клюева первый в 30-е годы. Он приезжал в 30-е годы в Россию. Вот. Он основал славизм итальянский как бы.
ИБ: Ну да. Ну вообще...
ЕР: Угодили?
ИБ: Угодили, да. В высшей степени. Спасибо.
А: У Вас есть ощущение Петербурга как России или все-таки это разные для Вас понятия? Для Вас империя это и Петербург или все-таки Россия есть что-то другое, кроме Петербурга?
ИБ: Вы знаете, столицы…все столицы в мире, они чрезвычайно малое отношение имеют к странам, столицами которых они являются. Петербург ни в коем случае не исключение. Москва тоже не Россия. Она Россия только благодаря вокзалам своим - тогда, тут она становится Россией. Вообще страна всегда…. Россия начинается с вокзалов, любая страна.
Петр построил этот город на краю империи, на отшибе, если угодно. Именно благодаря этому у нас и возникла литература, ибо всякому писателю для того, чтобы писать о чем-то, нужен элемент какой-то отстранения, то есть чтобы его письменный стол стоял как бы несколько вовне. Разумеется, это все встретило колоссальное сопротивление – когда он все это перевел в Петербург и так далее и так далее. Но тем самым он сделал нечто совершенно замечательное и Россия была, может быть, в определенном смысле великой страной именно потому, что столица ее находилась на ее краю, то есть на краю мира, да?
То есть Россия, по существу, исторически, это страна чрезвычайно клаустрофобическая, да, то есть это отношение ее к миру - это отношение к своим младенцам, которых мы закутываем во все эти самые…и так далее и так далее.
То есть это, в общем, утробное состояние. Петр сделал совершенно замечательный рывок. Я не знаю даже - осознавал ли он то, что он делал, то есть было ли это у него в сознании, то есть метафизическое, как бы это сказать, измерение. Но это шаг вовне, да. И это то, что мы все на самом деле и есть на земле. То есть мы всегда стоим на границе мира, который там начинает открываться, открываться и открываться. И для России, для этой огромной страны, надо открыться в мир, да. Да? И в этом есть определенный провинциальный смысл Петербурга, да, не говоря о том, насколько это все прекрасно местами, да?
***
(Рейн протягивает сигареты)
ИБ: О, LM! Знаешь, кто их курил? На этих сигаретах я и заработал свой первый инфаркт.
ЕР: Крепкие…
ИБ: Да, очень крепкие. Их курил Одэн. Когда я увидел, что Одэн курит LM, я понял, что мне надо курить LM, да. Я бросился курить LM. Плохо кончилось.
***
ИБ: В 1964 году, в 63, в 64 я попал за решетку, в третий, по-моему, раз, и меня повезли на Север со сроком в пять лет и так далее и так далее и так далее. Я к тому времени уже писал стихи, и, в общем, стихи для меня… и в общем чувствовал себя лучше всех и вся, то есть, по крайней мере, порядком выше всех и вся. Я оказался…я помню купе на четверых, но устроились в нем 16 человек, туда заталкивали прикладами. Там были люди самых разнообразных сословий, главным образом, уголовный элемент, ну и простые люди, какие-то алкоголики, и так далее, ну неважно.
И напротив меня сидел крестьянин – как их рисовал Крамской - руки с венами, длинная борода и так далее и так далее. Поезд довольно долго шел в Архангельск из (неясно) - и мы разговорились. И я его спросил, за что же он там находится, и он сказал, что он просто украл мешок с удобрениями в совхозе, получил 10 лет, ему в тот момент было, наверно, лет 65, если не больше, да и выглядел он старше.
И я понял одну вещь - что он никогда из этой системы не выйдет, вот он здесь и умрет –то ли в этом поезде, то ли на пересылках, то ли в другом лагере и так далее и так далее и так далее. И никакая Honest International и - более того - никакой Союз Советских писателей и даже молодые люди, мои друзья, не будут знать его имени и никогда его нигде и никак не помянут.
И это в некотором роде произвело на меня довольно сильное впечатление. То есть это вот этот отрыв культуры…. И я понял, что …. То есть если я что-то понял….то есть понимаешь эти вещи животом, я понял, что в общем все то, чем я занимаюсь, ну до известной степени, это, конечно, замечательно, и я хороший человек, но то, что со мной происходит, рано или поздно, то есть каким-то образом, мне даже поможет. То есть кто-нибудь будет за меня хлопотать. За этого человека никто хлопотать не будет. Вот вам разница между культурой и жизнью нации. И это чудовищно.
И еще был один момент, когда я там начал жить, работать, на Севере, в этом совхозе и так далее и так далее. Это было действительно скверное место во многих отношениях и мне это в сильной степени не нравилось, и просто я совершенно к этому не был готов –городской мальчик и все остальное. Но был один момент… то есть был там один момент, от которого мне…это знаете, когда вот утром, в 6 утра, скверная погода, зима, холодно, или осень, что еще даже и хуже, и ты выходишь из дома - в этих самых сапогах и так далее и ватнике - и идешь в сельсовет получать наряд на весь день; и ты вот идешь через это поле, по колено в этом самом, в чем угодно, - и так далее и так далее и так далее, солнце встает или еще не встало, но ты знаешь, что в этот час, в эту минуту, ну примерно 40% населения державы движется таким же образом.
И…я не хочу сказать, что это тебя наполняет….ээ...скажем, каким-то чувством единства, это зависит от индивидуума –наполняет –не наполняет, но мне это ощущение, в конце концов, стало, было и до сих пор до известной степени задним числом дорого.
И поэтому и то, что я говорю сейчас, то, что я говорю, продиктовано не, скажем, высоколобостью и отстраненностью, но этим чувством, что мы должны на каждого человека обращать внимание, потому что мы все в совершенно чудовищной ситуации, где бы мы не находились. Уже хотя бы потому мы в чудовищной ситуации, что мы знаем, чем все это кончается – мы умираем. И что меня поражает совершенно на сегодняшний день в излюбленном отечестве, вот, что люди, то есть значительное количество людей, которых я знал или которых я не знал, но, в общем, принадлежащих к тому примерно классу образованных и так далее и так далее - она ведет себя таким образом, как будто они никогда ничему не научились, как будто им никто никогда не говорил, что надо понимать и любить всех, то есть каждого, то есть, да. То есть я не понимаю, как это происходит, я думаю, что в обществе еще есть вот этот общий знаменатель, который бы надо бы сохранить, который надо всеми силами удерживать, да?
***
Читает:
«…Там, за нигде, за его пределом
-черным, бесцветным, возможно, белым –
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет»
Фильм второй. "Возлюбленное отечество"
ИБ: Вы знаете, я тут смотрел несколько раз, так случалось, что кто-то мне показывал фотографии – и что меня более всего начало огорчать - что я увидел другие трамваи. Американка больше не ходит, да?
ЕР: Да, американки больше нет.
ИБ: Они уже все сняты.
ЕР: Они даже не знают, что такое американка.
ИБ: То есть это уже другие трамваи, другие троллейбусы, другие автобусы.
ЕР: Троллейбусы, я думаю, почти те же.
ИБ: И, разумеется, можно… ну как к этому можно отнестись…можно все это принять и так далее и так далее и так далее и приспособить свое сознание к этому и так далее. Но когда я думаю о родном городе, я все-таки вижу старые трамваи, а не новые трамваи. И я думаю, на сегодняшний день, да, мне все говорят в какой упадок город приходит, я думаю, что в особенный упадок, в больший упадок….
ЕР: Нет, это ерунда.
ИБ: …чем в 1947 г. он не может быть. Ну вы знаете, мы же все, особенно, там скажем, люди нашей профессии, мы все, как бы сказать, продукты литературы и как продукты литературы, как продукты изящной словесности, мы больше зависим от прошлого, чем, так я думаю, от настоящего и тем более будущего. То есть среди нас довольно мало, так скажем, научных фантастов, да? И я думаю, что сознание наше, например вот Евгения Борисовича, например, и мое - оно в сильной степени, как бы сказать, загипнотизировано тем, в чем мы выросли и тем, что мы прочли. То есть, например, когда мы слушаем «Заблудившийся трамвай», то есть то, что является, так скажем, ну я не знаю, золотом русской литературы, вот, к примеру, все эти произведения…. Мы, разумеется, представляем себе не новые эти самые выпущенные я не знаю каким заводом или купленные где, да, мы представляем себе эти самые американки или вот эти трамваи, которые ходили в 30-х гг., в начале века, и так далее и так далее, да.
ЕР: да.
ИБ: …колбаса и прочие дела. То есть я почему говорю про трамваи – потому что этого уже нет, да. И поэтому это уже другой мир. Более того, отвечая на Ваш вопрос - скучаете ли Вы по родному городу - я предполагаю следующий вопрос и так далее и так далее и так далее. Дело в том, что это уже другая страна, это уже другой город. И не только потому, что там другие трамваи. Но это просто другие молодые люди, это люди Вашего поколения, Вашего поколения, которые обладают экзистенциальной силой и контролируют реальность. Это может нравиться – не нравиться. Если ты живешь в этом, то ты бессознательно к этому приспосабливаешься, если ты не живешь в этом, это для тебя, в общем, колоссальная перемена, да. Я не знаю этих людей, да. Я не очень хочу их знать, по правде сказать, да. Мне не очень интересно настоящее и не очень интересно будущее, мне дорого то, что я любил, люблю и, видимо, с чем я в землю лягу. Да. Другим я уже не стану. Мне не хочется, в общем, особенно модифицировать свои ощущения, и так далее и так далее.
Но я не возвращаюсь в возлюбленное отечество отнюдь не поэтому, это все равно, вы знаете, как до известной степени вернуться к первой жене, да. Ну конечно, это самое, с одной стороны, интересное, но с другой стороны, в общем, особенного смысла ….вот что ты ее любил и чем ты стал в результате этой любви куда важнее чем то, во что она превратилась, да?
***
ИБ: Это вот уже задняя внешняя стена венецианского арсенала. Там, за теми островами, лежит Адриатическое море и за Адриатическим морем Средиземное. Вот сюда приходил весь флот, да. Там остров Сан-Микеле. Это остров мертвых, на котором лежат, среди всех прочих, Стравинский и Дягилев. Там их могилы. И там еще много русских аристократов лежит, родственники Пушкина, в частности. Помимо всего прочего, Сан-Микеле, он сыграл довольно замечательную роль в европейской живописи 19 века. В частности, Каспар Фридрих, это для него, как бы послужило…. – это такой немецкий художник довольно замечательный был, романтик-… это послужило источником его картины «Остров мертвых» – одной из самых замечательных живописных работ 19 века, на мой взгляд.
Там Мурано – это где стекольные фабрики. Но Мурано это, может быть, не самое интересное, что есть в Лагуне, хотя, конечно же, потому что это близко к Венеции, это вам всем показывают и туда валом валят туристы и покупают стекло. Есть остров, который на расстоянии 2 часов езды отсюда, который называется тоже похоже – Бурано. На этом острове находится одна из первых базилик – то есть первых поселений венецианских. Вообще раскопаны совсем недавно. Считалось, что Венеция, Лагуна начала заселяться римлянами где-то около 5 века. Сейчас выясняется, что это несколько раньше.
Это, как бы сказать, парадная гондола венецианского доджа. Всевозможные церемонии - как приемы послов, приезд папы, кроме того, всевозможные регаты и так далее и так далее, все празднества открывались проездом доджа по гранд-каналу вот в этом самом. В этой кабинке сидел непосредственно господин додж…на веслах сидели гребцы. Существует масса живописных работ, свидетельствующих, то есть изображающих этот процесс – когда по гранд-каналу плывет… в частности, у Карпаччо этого много… Практически принадлежало Отелло. Да. Вот это самый замечательный Лев у нас, у него в книжке – «Мир тебе….мой евангелист» Кто говорит? Кто может сказать Евангелисту мой?
ЕР: Господь
ИБ: Правильно. Четверка. Со мной происходит нечто в общем как бы сказать семейное, потому что у меня отец был…он служил на флоте как бы довольно долго, и все эти самые морские, флотские дела они как бы сидят в сильной степени внутри, да. Кроме того, я все свое раннее детство, ну то есть начиная с 6 до 9, по крайней мере, лет, я провел в военно-морском музее, где отец, то есть он там работал, в этом самом музее и, кроме того, он был офицером, он там дежурил. И по ночам я гулял по всем помещениям вот это порядка, хотя там несколько все теснее, но там другая архитектура. Кроме того, после всего этого отец работал многие годы фотографом в Балтийском пароходстве. И помимо всего прочего, я сам стал фотографом в этом же самом пароходстве. Но дело не в этом. Дело в том, что и для него и сам по себе я проявлял массу и массу его снимков, да, которые он снимал. Я проявлял и печатал - и на этих снимках, конечно, всегда была вода –вот эти морщинки водички, да? Это вот как для него массу чего-то значило, так это значило и для меня, но еще благодаря ему. То есть такая водичка, такие морские дела.
***
ИБ: Я так предполагаю, что если я приеду, я приеду не на вокзал, а прилечу либо в Пулково или приплыву из Швеции на пароходе в гавань. Вот это было бы понятно, да. Выйти, сесть, я не знаю, в такси или сесть на 47 автобус, который, видимо, уже изменил номер маршрута и так далее и так далее. Он прямо к дому подходил…
ЕР: Да, подходил прямо к дому...
ИБ: Да.
ЕР: Прямо из гавани начинается большой проспект Васильевского острова…
ИБ: Это то, что московские люди не знают.
ЕР: Да, значит, Иосиф первый заметил некоторые районы Петербурга, которые не пользовались никаким спросом. У него есть, по-моему, замечательные стихи, написанные как бы от берега, где находится Смольный собор с обзором на Охту.
ИБ: Малую Охту, да.
ЕР: О том, как юность томится стаканом лимонада.
ИБ: дадада. Химкомбинат охтинский.
ЕР: Я очень люблю эти стихи.
ИБ:Я их не помню.
ЕР: Но они очень старые, он их мальчиком написал, но там грандиозная полифония, в этом стихотворении, совершенно грандиозная полифония, и оно замечательно передает такое состояние юношеской лихорадки.
ИБ: Да.
ЕР: Дело в том, что в какой-то период… в разные периоды в стихах Иосифа была разная музыка и тогда, в тот период, у него звучал такой джаз в стихах. Джаз предместий, да. Как будто бы сам город на своих трубах и башнях что-то играет. И вот это замечательное стихотворение.
ИБ: «От окраины к центру», да?
ЕР: «От окраины к центру», да. Оно есть такая джазовая импровизация такая. Там очень красивая Нева за Смольным, да. Она другая совершенно, чем в центре города.
ИБ: Мост Петра Великого…
ЕР: Да…значит, там за Смольным собором такой есть какой-то сад…
ИБ: Да, спускаешься к водичке, выходишь за ограду…
ЕР: …за ограду выходишь…
ИБ: Там сквозь дыру выходишь…
ЕР: …да, сквозь дыру…
ИБ: По-моему, в мое время так было…
ЕР:Да, и теперь. Вот я был там буквально в мае этого года. Другая Нева, Охта видна, трубы, бегут какие-то пароходики, такой стальной цвет, рябо-стальной, стальная рябь.
ИБ: Анна Андреевна как раз говорила про Смольный, что он убегающий собор. То есть всегда… то есть чем ближе ты к нему, тем меньше его, да. Тем он, как бы сказать, от тебя все время…
И когда ты стоишь на мосту, хоть на Литейном, хоть на Троицком, и смотришь вниз по течению, ты видишь город, ты видишь эту панораму, и ты знаешь этот город - ты жил, ты прожил в нем всю свою жизнь, ты знаешь, кто живет во всех этих домах - и тем не менее у тебя возникает ощущение, что там какой-то другой мир, да. И вот это наложение известного на фантазию или фантазии на известное, да,… в этом…это нечто совершенно уникальное, нечто абсолютно родного города, да, родному городу принадлежащее. И вот когда ты смотришь туда, ты представляешь, что люди там другие, хотя ты знаешь их как облупленных, да, всю эту сволочь, там, допустим, государственную, да, и так далее и так далее и так далее. Ну вот, но, тем не менее, тебе начинает казаться, что там другой мир, лучший мир.
ЕР: Да, да, у меня даже было такое стихотворение, вот точно то, что Ося сейчас не помнит, вот это стихотворение, но вот это буквально он говорит слово в слово.
ИБ: То есть? Какие строчки?
ЕР: Сейчас.
«Домой возвращаюсь с прогулки,
Гляжу на огни и дома,
Но ключик от этой шкатулки
Найти не хватает ума»
ИБ: Да, совершенно верно.
ЕР: Это даже не шкатулка.
«Как близко Васильевский остров,
Как будто достанешь рукой,
Но скрытен, как будто подросток,
Он что-то таит за рекой.
И смутное солнце заката
Татата…
Внезапным волненьем объята
Душа на обратном пути»
Не помню.
ИБ: Откровенно говоря, о родном городе у него были замечательные стихи. Вот это ощущение, о котором я говорил, даже точнее, чем в тех стихах, которые он прочел:
«В полусферическом огне
Кровосмесительных закатов,
Вторая жизнь являлась мне,
Ладони в красный жир закапав»... да.
«Я угадал ее, она
Меня не путала нисколько,
Ведь я не падал, хоть вода
Мне пятки слизывала скользко»
Да, замечательно.
«Ступай и дальше, говорю,
По буму наобум, бесплатно,
на половицу, на зарю
срезая линию заката».
Вот это, да?
ЕР: Гениальная память у человека.
ИБ: Что-то он помнит.
ЕР: Гениальный вкус.
ИБ: Да, вкус хороший, да.
ЕР: На Фонтанке есть такой знаменитый проходной двор, рядом с бывшим третьим отделением, где на том берегу Михайловский замок, а подворотня запирается на такую красивую решетку. Это все открыл Иосиф. И он подводил своих друзей с внутренней стороны – помнишь? - к этой решетке, закрывал решетку – и Михайловский замок виден через решетку.
ИБ: Это особняк Кочубея
ЕР: Да, особняк Кочубея. Замечательное впечатление, потрясающее.
ИБ: Я был чрезвычайно горд, в некотором роде я чрезвычайно горд до сих пор, видимо… нет, все-таки не так уж горд, но, по крайней мере, - что меня действительно судили рядом с третьим отделением. Это очень приятно. Все-таки в этом что-то есть.
ЕР: Это, кстати, знаешь, клуб Ленстроя.
ИБ: Теперь.
ЕР: Да, теперь. Фонтанка, 22, что ли, по-моему.
ИБ: Что-то около этого, да. Это замечательное место, это, знаете, это, ну как бы вам сказать… через эту подворотню, которая рядом с этим фонтаном - памяти героев обороны острова Ханка - через нее вывозили из третьего отделения всех – вывозили Федора Михайловича Достоевского, то есть до этого петрашевцев, да, ну это понятно, потом его, потом всех и вся, вплоть до Кирилла Костынского, царство ему небесное.
ЕР: А ты знаешь интересную вещь, ты, может, ее не знаешь. ГБ тайно сделало на процессе твоем тысячу фотографий…
ИБ: Замечательно.
ЕР:… значит… и они сейчас частично выданы
ИБ: О, я бы с удовольствием посмотрел на себя в молодости. Там волос было больше, да?
ЕР: Да.
***
ИБ: Ну вот вы спрашиваете меня, человека, который уже 21 год живет вне России и теоретически его даже и спрашивать не надо, уже хотя бы потому, что у него как бы и нет по русской традиции и права об этих вещах рассуждать. Но я думаю, что это неверно. Дело в том, что моя степень как бы сказать отдаленности или отстраненности от того, что там происходит - в ней есть определенное преимущество, а именно - я могу смотреть или, так мне кажется, я смотрю на это с определенной долей трезвости - то есть мое сознание, как бы сказать, не очень замутнено или не раздражено немедленными раздражителями, да. Дело в том, что основная трагедия русской политической и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку. В общем, если угодно, в презрении. Это обосновано до известной степени теми десятилетиями, если не столетиями, всеобщего унижения, когда на другого человека смотришь как на вполне заменимую и случайную вещь. То есть он может быть тебе дорог, но, в конце концов, у тебя такое глубоко внутри запрятанное ощущение, что - да кто он такой?, да кто ты такой? - и так далее и так далее. Я думаю даже, что вот за этим моим, как бы сказать, подозрением меня в отсутствии права тоже может стоять «да кто он такой?»
И одним из таких выражений вот этого такого неуважения друг к другу являются именно вот эти самые шуточки и эта ирония, касающиеся…. в общем, предметом которых является общественное устройство в обществе.
То есть самое чудовищное последствие тоталитарной системы, которое у нас было, которое у нас царило и так далее и так далее…. является именно полный цинизм или, если угодно, нигилизм общественного сознания, да. И, разумеется, это чрезвычайно такая и удовлетворительная вещь – это же приятно – пошутить, поскалить зубы и так далее и так далее. Но все это мне очень сильно не нравится.
Набоков покойный однажды сказал, когда ему стали рассказывать (это была какая-то ситуация – к нему кто-то приехал из России и рассказывал русские анекдоты. Он смеялся, смеялся и говорит: - Замечательный анекдот, замечательные шутки, но все это мне напоминает шутки дворовых или рабов, которые издеваются над хозяином, в то время как сами они заняты тем, что не чистят его стойло)
Вот и это то положение, в котором мы оказались. И, по-моему, может быть, я думаю, было бы разумно попытаться несколько изменить общественный климат. На протяжении, в течение этого столетия русскому человеку выпало такое, ни одному народу (ну, может быть, китайцам досталось больше), но я не хочу говорить о китайцах, я не хочу говорить о других - чего ни одному народу, населяющему, в общем, северную часть Евразии, не выпадало.
Мы знаем, то есть мы увидели абсолютно голую, буквально голую основу жизни, да. Нас раздели и разули и выставили, в общем, на колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого не должны быть ирония, результатом этого должно быть взаимное сострадание. И этого я не вижу, я не вижу ни в политической жизни выраженным, я не вижу этого в культуре. То есть и это тем горше, особенно когда это касается культуры, потому что, в общем, происходит такое…самый главный человек в обществе это человек более или менее остроумный и издевающийся. И это мне колоссально не нравится. Я опять-таки повторяю –я говорю издалека.
Библия права в одном отношении - что ты в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб, да. Никакая система –ни капиталистическая, ни социалистическая, ни коммунистическая, никакая не избавляет человека от того…
Ну вот я простую вещь сейчас скажу…Мне было 16 лет, я работал на заводе Арсенал, был митинг в поддержку Египта, потому что тогда произошли все эти самые события и так далее и так далее. И лектор, я уже не помню, откуда, это было собрание рабочих и так далее и так далее, начал что-то такое говорить, что мы должны помогать Египту, бороться с капитализмом и так далее. И поэтому мы должны выйти на субботник. И встал человек –это был тогда 56-й год, довольно страшное время - слесарь в моем цеху. Он,видимо, уже и пьян был в то время, к тому моменту. И он сказал: - А какая мне разница - капиталист мой хозяин или коммунист мой хозяин - один дьявол, мне надо вставать в семь утра. И вот это надо помнить при всех этих разговорах о новом обществе там, и западных моделях или уже черт знает о чем.
***
Читает «Письма Римскому другу»
ИБ: Помнишь Зоську?
ЕР: Ну конечно
ИБ: Я был в Катовице совсем недавно и увидел ее там, она там преподает и так далее и так далее. И она меня попросила написать письмо, я написал довольно длинное письмо о том, что произошло со мной в Варшаве и так далее и так далее, поскольку она не могла туда поехать. И в этом письме, по-моему, замечательную формулу изложил.
Я писал и - то есть – я прошу прощения, что я цитирую свое собственное письмо кому-то и так далее и так далее- но там есть довольно точная формула. Она сводится примерно к тому, что война окончена - и, видимо, мы победили - но я себя не чувствую среди побежденных, среди победителей. И мне не нравятся ни побежденные, ни победители. В общем, я чувствую себя более или менее лесным братом с примесью античности и литературы абсурда. Вот что такое моя кошачья милость.
Вот при всех этих самых делах, при всех этих нобелевках - ненобелевках, том, что происходит в России, при том, что происходит в мире, ты чувствуешь себя, в общем, в сильной степени на отшибе.
ПРОГУЛКИ С БРОДСКИМ II. ИСТОРИЯ СЪЕМОК
Фильм первый
ИБ: Мы ведь не говорим стихи или не говорим я поэт, да. Мы говорим стишки, да?Вот.
ЕР: Да. Мы говорим стишки.
ИБ: Да. И сказать про себя поэт –это как вот говорил Роберт Фрост –это также нескромно, как сказать про себя: я хороший человек. Или – как говорила Анна Ахматова – «Я не понимаю этих больших слов – поэт, бильярд»
Стишки о Венеции
Читает «Прошло что-то около года…»
ИБ: Не очень, да?
ЕР: Нет, очень хорошее, я его очень люблю. И мне нравится вот конец замечательный.
ИБ: Нет. Мне нравится «...теперь здесь торгуют остатками твоих щиколоток…»
ЕР: Да оно все очень хорошее, замечательное.
О рыбной ловле и водичке
ЕР: Ты ведь рыбак
ИБ: (неясно)… и на Дальнем Востоке ловил массу этой рыбки.
А: На Западе как? Ловят рыбу?
ИБ: То есть? Это самый любимый вид, как бы сказать, отдыха для профессионального человека.
А: Неужели на берегу Гудзона стоят люди и…?
ИБ: На берегу Гудзона, да, они стоят и ловят на удочку. Не только на берегу Гудзона, на берегу чего угодно, Миссисипи, Темзы, Сены.
А: Они же страшно помешаны на экологии?
ИБ: Ну безусловно, да
А: А как же они из этой грязной…?
ИБ: А рыбка… то есть рыбка на самом деле… у нее совершенно замечательная система адаптации. Она фильтрует сама себя. То есть она не дура, да. То есть мы, конечно, можем отравить речку так, что уже никакие фильтры не помогут, но с рыбой все в порядке.
ЕР: Вот в Стокгольме там лососина выскакивает…
ИБ: Да, совершенно верно, то есть ты ходишь по Стокгольму - и она прямо выскакивает, разбивает лед.
ЕР: Я видел... Я приехал в Чехословакию, в какой-то старый замок, где жили все- начиная от Валленштейна и кончая Пабло Неруда, значит.
ИБ: Паблой
ЕР: Паблой Нерудой, да. И там озеро. И ни одного человека в парке. Я сел на берегу озера и вдруг из воды стали на полтора метра выскакивать огромные карпы. Они, наверно, почувствовали во мне что-то родное.
ИБ: Да.
ЕР: Я люблю фаршированного карпа
очень.
ИБ: Я вам сейчас скажу следующее. То есть я не знаю, должен ли я это говорить, но я попробую это каким-то образом сформулировать. Дело в том, что это я сам про себя заметил, но поскольку я как бы это говорю и я как бы употребляю это местоимение…Я сам про себя заметил, что у меня есть несколько повышенный интерес к водичке. То есть интерес абсолютно абстрактный, потому что - а – плаваю я плохо, да, и ну что еще? И, в общем, такого, как бы сказать, употребления практического особенно для себя не вижу. И боюсь… ну я несколько раз тонул, в этом все дело, да. Но тем не менее интерес довольно сильный и совершенно это никаким образом не связано ни с Фрейдом, ни с чем угодно. Думаю, что связано, видимо, с каким-то довольно интересным…- то есть, может быть интересным… может быть, то, что я сейчас скажу полный идиотизм - на подсознательном – и опять –таки никакого фрейдизма здесь нет – ощущением, что каким-то образом я с водичкой связан. В большей степени, нежели с какой бы то ни было иной средой. Ну начать с того- водичка она прежде всего позволяет вам смотреть вперед и, может, далеко, да. То есть она набегает, значит, это самое, на берег и немедленно возвращается куда-то к горизонту, назад. То есть вот такой эскалатор речной….
Но за этим стоит и нечто более существенное. В принципе, можно пуститься в самые разные тяжкие… То есть, например, в чем отличие земли от всех остальных планет солнечной системы? – что у нас как раз есть водичка и поэтому есть жизнь. То есть во мне говорит не столько турист в Венеции, сколько моллюск, да, сказывается. Не говоря о всех этих христианских ассоциациях, что рыба-Христос, что человек возник из этого самого и так далее. То есть тут что-то есть. Я не знаю - что, даже, но что касается меня, меня в водичке, прежде всего, привлекает этот ее аспект бесконечности в чистом виде, да. То есть, который нигде в природе иначе не дан. То есть бесконечность, которая может быть в ландшафте - даже если это горы - то, в общем, это все субъективное ощущение, что это вычисляемо, и ты знаешь, сколько километров и сколько метров и где это все кончается. Эта вещь нигде не кончается. И только что вот в родном городе, когда я там жил, эти 32 года и так далее и так далее, то у меня было ощущение, что и она ограничена каким-то образом, да, там скажем, военно-морским флотом, я не знаю, пограничной службой, я не знаю.
Потому что это единственное, на что ты можешь смотреть без этого самого, без раздражения, да. И вода это постоянное приключение. То есть два на свете существует самых главных шоу для меня – это вот это и облака. То есть это самые многособытийные…
О Питере, Москве и Нью-Йорке
А: Как вы говорите, когда вы называете родной город?
ИБ: Я сбиваюсь. Это либо Питер, либо Ленинград.
А: Но не Петербург?
ИБ: Нет, это Петербург для меня, конечно же. Все это началось раньше же, раньше, чем это пришло в голову вашему поколению или, там скажем, власть предержащим, да. Я не помню, мне было 19 лет или 20 лет или 21, но я своими собственными руками не такое уж и замечательное художественное произведение, но написал поэму, которая называлась «Петербургский роман».
ЕР: Да, да.
ИБ: Вот. И почему это произошло. Это произошло не потому что, там скажем, я сноб, ностальгия и так далее и так далее, но потому что все это вышло из Мандельштама, да. Из стихов:
«…над желтизной правительственных зданий
летит в туман моторов вереница.
Самолюбивый скромный пешеход, чудак Евгений,
бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет».
И вот вам эта формула, ее никогда не изменишь, да.
А: Куда бы вы пошли прежде всего?
ИБ: Я пошел бы гулять вдоль водички.
ЕР: В новую Голландию
ИБ: В Новую Голландию, да.
А: А на какой вокзал вы хотите приехать- на Московский, Варшавский?
ИБ: Я так предполагаю, что если я приеду, я приеду не на вокзал, а прилечу либо в Пулково или приплыву из Швеции на пароходе в гавань. Вот это было бы понятно, да. Выйти, сесть, я не знаю, в такси или сесть на 47 автобус, который, видимо, уже изменил номер маршрута и так далее и так далее. Он прямо к дому подходил…
ЕР: Да, подходил прямо к дому.
ИБ: Да.
ЕР: Прямо из гавани начинается большой проспект Васильевского острова…
ИБ: Это то, что московские люди не знают…
А: Как вам Москва?
ИБ: Есть части Москвы, которые, в общем, мне чрезвычайно дороги - например, «переулки, что катятся с горки». Как там вторая строчка?
ЕР: Сейчас.
ИБ: Это место….переулки… «вы Печатников…Колокольников….переулочек Багров...как печальные алкоголики…»
ЕР: Это он мои стихи читает
А: Ваши?
ИБ: «Я пойду на открытые площади…упаду…8 лет…Трубная площадь, ах, нету площе…панорама рынок и цирк….моя Швейцария, я и вправду здесь ни при чем». Ну там и конец, да.
ЕР: Я не помню.
ИБ: А Москва, описанная Рейном…Вот с этого для меня Москва началась, да. Это не…Он человек действительно двух столиц, неприкаянный житель, да. Нет, ну только так и можно разговаривать.
И есть какие-то части Москвы, которые мне ну просто лично по каким-то….Это замечательный город, да. Я в нем какую-то толику своей жизни прожил. Я туда приезжал, как правило, зарабатывать деньги – то есть в издательство, потому что в родном городе мне никто работу никогда не давал, а в Москве давали. И Москва для меня, прежде всего, связана с ощущением колоссальной экстерриториальности, то есть когда ты все время как бы кочуешь по этому городу. Разные квартиры и в связи с этим возникающие диковинные ситуации и так далее и так далее. Но в Москве у меня действительно несколько чрезвычайно дорогих для меня мест. Это Тишинка, на которой я прожил довольно много, потому что у меня там живет человек, которого я действительно…
ЕР: Мика Голышев
ИБ: Мика Голышев, да, к которому я испытываю – и к его семье – чрезвычайное расположение. Та же самая Ордынка, действительно. Что еще?
ЕР: Я в Москве на Сретенке вырос.
ИБ: Да. Это замечательный район.
ЕР: Да, я его очень люблю. В Печатниковом переулке.
А: Нет ли ощущения, что Нью-Йорк наиболее адекватный Москве город?
ИБ: Вы знаете, это не так, но действительно там, скажем, есть куски Нью-Йорка…
ЕР: По концепции…
ИБ: По концепции это Васильевский остров.
А: Нью-Йорк-это Васильевский остров?
ЕР: Ну конечно, линии.
ИБ: Да, линии, линии и проспекты. Ну, там несколько больше проспектов, то есть больше этих самых…авеню.
В Нью-Йорке, начиная где-то от 80-х улиц Ист- Сайта, на Восточной стороне, в сторону Колумбийского университета и в сторону Гарлема –там действительно возникает ощущение Москвы, потому что там стоят дома примерно той же высоты и того же масштаба, как на Охотном ряду, да. Или в Охотном ряду. И от этого есть какое-то ощущение сходства, да, но не более того, не более того, нет.
Это просто совершенно другой город, с другим ритмом, с другим просто абсолютно колоритом, да. В Нью-Йорке, помимо всего прочего, начать с того, чрезвычайно мало колонн в фасадах, то есть все это есть, но преимущественно это игра в кубики, доведенная до абсолюта, да. Причем абсолютно хаотические кубики, да. Потому что этот город построен без всякого плана, как бог на душу положит или как там…кто деньги на стол положит. Так это все возникало. То есть там нет этой идеи ансамбля, все это возникало, исключительно, в общем, грубо говоря, по необходимости такой, так сказать, финансовой, скорее всего. Нет, это город совершенно не дающий мне ощущения сходства с Москвой, хотя вот эти участки есть, да – то есть когда кусок Бродвея ты смотришь – от 80 или 90 до 116 улицы, да –это действительно ощущение Москвы –какого-то Охотного ряда или уж я не знаю чего. Но это не лучшая Москва.
ЕР: Это чудовище цивилизации такое…
ИБ: Нет,нет. Там нет особняков –таких, как есть в Москве, да, то есть ,ну поскольку этого просто никто не мог себе позволить. То есть кто-то мог себе позволить, но даже если кто-то себе и позволил и построил себе усадьбу в центре города, через 100-50 лет это бы все снесли, стерли и воздвигли бы небоскреб или, по крайней мере, что-то коммерчески более осмысленное, выгодное и так далее и так далее.
Вы знаете, на самом деле Нью-Йорк так и назывался новый Амстердам - и по принципу Амстердама он так же, как и Петербург, и был построен, да. То есть здесь есть, в общем, чрезвычайно сильное сходство.
И когда я выхожу из своего дома или, по крайней мере, когда на протяжении 19 или 20 лет я выходил из своего дома и шел к Гудзону, да, и смотрел –это абсолютно Малая Охта, но вот только что на этом берегу статуя Свободы стоит.
О львах и кошках
ИБ: Перед этими львами всегда сидит либо кошка, либо собака, потому что у них, у этих зверей, чутье, что они совпадают со скульптурой. Если вы думаете, что их 6, этих львов, перед ними еще сидит седьмой, но живой.
Что такое кот, на самом деле - вообще, в Италии и в Риме. Это, как бы сказать - особенно в Риме, это очевидно - это такой сокращенный лев, да. Также, как мы сокращенные христиане, да, в миниатюре.
А: Известно, что вы кошатник. Почему? Почему кошка одно из ваших любимых животных?
ИБ: То есть у меня есть один простой ответ. Такой простой ответ. У меня был инфаркт однажды, я лежал в квартире своей знакомой в Нью-Йорке, и двигаться мне нельзя было. Я лежал после инфаркта и так далее и так далее. И у нее была кошка. Естественно, мне пришлось ее наблюдать с большей степенью концентрации, чем это происходит обычно.
Я смотрел на эту кошку –черная она была такая – и мне пришло в голову, что какую бы кошка позу не принимала, чем бы она не занималась, даже когда она, скажем, делает кака, -она все равно грациозна. То есть, нет положения, в котором кошка была бы неграциозна.
И я подумал, что, скажем, если мы возьмем самой замечательной красоты существо женского пола, например, ту же Мерилин Монро, - все равно в каком-то положении она окажется немножко неуклюжей, да, если с какого-то угла, -скажем, если она завязывает ботиночек и так далее и так далее. И мне пришло в голову… я подумал, откуда же наши эстетические стандарты, стандарты красоты, если кошка им удовлетворяет на 100%, а человеческое существо на 70.
То есть что тебе кошка говорит? Либо ты на меня обращаешь все свое внимание, 100%, либо я пошла в другое место, да. И этот взгляд, абсолютизм этот кошачий, мне ужасно нравится.
Кроме того, кошки совершенно не обращают внимания на электронику, то есть телевизионное изображение на них не производит никакого впечатления. И я думаю, было бы чрезвычайно разумно создать какую-нибудь такую вакцину, которую прививать населению.
А: А Венеция кошачий город?
ИБ: Венеция в высшей степени кошачий город. Ну, во-первых, все эти самые львы, но с другой стороны здесь действительно много кошек. Это объясняется тем, что здесь много рыбы, а это… то есть, есть места, которые просто засыпаны рыбьими скелетами и там происходят колоссальные кошачьи концерты. Ассамблеи.
О 19 и 20 веке
ИБ: 19 век –это есть как бы книга, которая никогда не была прочитана, да. 19 век ведь смотри какая фантастическая вещь – он ведь включает в себя совершенно полярные….вот тебе с одной стороны Наполеон, а с другой Достоевский, да.
ЕР: Да.
ИБ: Это век, который гораздо больше, чем какой бы то ни было иной век, если угодно…То есть я думаю, что 20 век он куда монохромнее, да. Это вообще фиктивная категория –век, столетие и так далее и так далее, наша хронология, если угодно, да. Но это век, по отношению к которому все, что воспоследовало-20 век, да- это как бы сказать, маргиналии и записки на полях, да. Потому что все главные идеи и все главные концепции, которые были выработаны в 19 веке, они приложимы на сегодняшний день. То есть 20 век ничего нового не выдумал, кроме одной вещи – кроме концепции скорости или ускорения, да. Но если ты слушаешь какого-нибудь, допустим, Бетховена, да, какую-нибудь 17-ю сонату, да, - ты видишь там ускорение, которое, в общем, до известной степени превосходит даже ускорение буги-вуги, да. И это ужасно интересно – откуда в Бетховене это взялось, да. Где он надыбал эту скорость? Падение листьев, полет птиц и так далее и так далее …этого нет. Вся (неясно)…заключается в том, что в материале искусства есть это ускорение, да.
ЕР: Интересно. Ты читал такую очень интересную книгу американца Фулвера «Футуро-шок»?
ИБ: Future-shok. Нет.
ЕР: Там написано, что 95% материального и абстрактно- символического мира, среди которого мы живем, появилось в 20 веке. Что человечество за 90 лет прошло больший путь, чем от египетских фараонов до Черчилля.
ИБ: Я не согласен с этим. Это абсолютно не так. То есть я с этим абсолютно не согласен. Например, у меня есть одно соображение по этому поводу. Дело в том, что когда мы говорим, допустим, когда мы…..оно не прошло путь, оно сошло с рельс…
ЕР: Сошло с рельс, да.
ИБ: …в 20 веке. Почему мы говорим о поэтах 19 века, например, да, потому что поэты 19 века действительно писали таким образом, что их могли понять и в Египте, да,да.
То есть взгляд поэта…то есть ощущение человека во вселенной, что ли, в 19 веке, в общем, был более или менее таким же, как ощущение человека во Вселенной было, так скажем, в римской империи или у греков. И так далее и так далее. То есть они перемещались по поверхности земли, в общем, с той же самой скоростью, с которой действительно перемещался человек всегда –то есть верхом, в коляске, как угодно, да.
И вот только в 20-м веке возникло это замечательное ускорение –скажем, сначала железная дорога, потом автомобиль, потом самолет, потом уже черт знает что, да. То есть когда причинно-следственная связь совершенно вылетает в трубу, да. И поэтому они в большей степени были в состоянии, чем мы, например, да – сосредоточиться на индивидууме, да, сосредоточиться на дереве, на цветке и так далее и так далее. На сегодняшний день в изящной словесности, например, дерево, цветок, там я не знаю, водичка и так далее –это уже такие тропы.
Это никто в поэзии, по крайней мере, полностью не создает, никто не задерживает внимания и не смотрит на то, что это такое. Последний человек, я думаю, был Мандельштам - «за тебя кривой воды напьюсь».
ЕР: Ну да.
ИБ: Все. Больше этого никто ничего качественно нового по поводу, например, водички не сказал в русской поэзии.
ЕР: Ты сказал.
ИБ: Ну я чего-то сказал. Но никто не смотрит больше, да.
О Галиче, Высоцком и о самом себе
А: Вы общались с Галичем?
ИБ: Да, немножко, немножко. Ну меня, вы знаете…Я к нему очень хорошо относился как к человеку…я его знал еще до всех этих событий. Я его еще знал по Москве, точнее по Переделкину. Но к этому жанру, в котором он, как бы сказать, работал, у меня отношение очень сдержанное было всегда.
ЕР: А ты пробовал читать как тексты это?
ИБ: Это можно. И это замечательно, мне кажется.
ЕР: Кстати, это довольно замечательно, Иосиф.
ИБ: Но я думаю, что если уж говорить на чисто текстовом уровне, на уровне качества стиха, я думаю, более интересным поэтом был Высоцкий.
ЕР: Да, правильно! Дело в том, что Галич очень жесткий поэт, он забивает как гвозди все это…
ИБ: Да,да,да
ЕР: …значит…Это все слишком сделано. Высоцкий свободнее.
ИБ: Это вообще довольно интересное явление. Они оба – и, в частности, покойный Володя –оба -их обоих нет….знаешь как это делать надо?
ЕР: Что?
ИБ: Вот то, что мы сейчас делаем. Ты сидишь там, я сижу тут, да. Помнишь «Пепел и алмаз»?
ЕР: Да
ИБ: Помнишь эту сцену в баре?
ЕР: Конечно. Бросать стаканчики?
ИБ: Да. Высоцкого помнишь?
ЕР: Да. И стаканчик толкать, да?
ИБ: Вот примерно этим образом. Помнишь Высоцкого?
ЕР: Помню, толкай стаканчик.
ИБ: Я вот еще одну вещь хочу сказать. То есть я это говорю, это совершенно никакого, ни к чему отношения не имеет, но я это скажу. Помнишь Зоську?
ЕР: Ну конечно
ИБ: Я был в Катовице совсем недавно и увидел ее там, она там преподает и так далее и так далее. И она меня попросила написать письмо, я написал довольно длинное письмо о том, что произошло со мной в Варшаве и так далее и так далее, поскольку она не могла туда поехать. И в этом письме, по-моему, замечательную формулу изложил. Я писал и - то есть – я прошу прощения, что я цитирую свое собственное письмо кому-то и так далее и так далее- но там есть довольно точная формула. Она сводится примерно к тому, что война окончена - и, видимо, мы победили - но я себя не чувствую среди побежденных, среди победителей. И мне не нравятся ни побежденные, ни победители. В общем, я чувствую себя более или менее лесным братом с примесью античности и литературы абсурда. Вот что такое моя кошачья милость.
Вот при всех этих самых делах, при всех этих нобелевках - ненобелевках, том, что происходит в России, при том, что происходит в мире, ты чувствуешь себя, в общем, в сильной степени на отшибе.
ЕР: Чувствуешь себя лесным братом,да?
ИБ: В общем, да. Неким партизаном с понятиями об античности и о литературе абсурда, да.
PS Письма Римскому другу
(читает)
ЕР: Вот эти стихи полны драйва, но не вульгарного, а замечательного, точно отмерянного драйва. Полны! Ты согласен?
ИБ: Ну согласен.
ЕР: Ну что, перерыв?
ИБ: Понятие драйва, по-моему, ввел я. Поскольку знал это слово по-английски.
Фильм второй
О проклятых русских вопросах "что делать?" и "кто виноват?"
ИБ: ………Я думаю, что если мы будем следовать тем указаниям или предложениям, которые на сегодняшний день доминируют в сознании, как интеллектуальной части населения, так и неинтеллектуальной, я думаю, что мы можем кончить потерей общества. То есть это будет, в общем, каждый сам за себя, да. Такая волчья вещь, да.
О Вивальди и первом приезде в Венецию
А: А пишущая машинка была у вас тогда?
ИБ: Пишущей машинки тогда не было,нет.
А: Писали от руки?
ИБ: От руки, да.
А: А вы вообще пишете от руки?
ИБ: Я пишу от руки, но сразу это хочется перевести на машинку, чтоб посмотреть, потому что у меня почерк чудовищный, да. А с годами это все стало гораздо хуже, потому что приходится и по-английски и по-русски все это самое…сочинять. И поэтому ты приезжаешь сюда с двумя пишущими машинками. Слава богу, у меня здесь есть приятель, который меня систематически на вокзале или в аэропорту встречает, он знает, на что он идет, вот…
А: А на каком языке у вас почерк хуже?
ИБ: Я думаю, одинаково. Одинаково. Нет, тут никакой иерархии нет.
А: А жили вы тогда в скромном номере, в дешевом отеле?
ИБ: Академия тогда была дешевле, чем она сейчас, но это все-таки…знаете, 20 лет назад все было дешевле, да. Вот. Кроме того, это не только дешевле в отношении процента, деньги растут и так далее и так далее. Но прежде всего было дешевле хотя бы потому, что меньше людей сюда приезжало, меньше людей было на Земле, в Европе, по крайней мере, да. Кроме того, зимой Венеция была непопулярна, потому что холодно, противно, дождь, снег, вода, сырость. Но мне это как раз ужасно нравится, потому что, по крайней мере, ну к этому я привык, да.
И это все знаете как началось? Я вам сейчас скажу. Когда-то мне Гослит заказал переводы такого итальянского поэта Умберто Сабо, да. Я перевел штук 10-15 стихотворений, может быть, меньше, из цикла его автобиографии. И в этой его автобиографии у него стихи о Северной Адриатике. Он вообще родом из Триеста был, то есть совсем неподалеку.
И у него была строчка : «в глубине Адриатики дикой…»,да. И когда я это прочел - не знаю, что это было, это как слова значат больше, они предполагают, чем буквальное семантическое содержание.
И когда я оказался здесь –я оказался в глубине Адриатики дикой. Потому что зимой Венеция – зимой именно, да- еще когда вы по островам или по окраине ходите –это довольно суровая жизнь –это не солнце и это не кафе, это не спагетти, не пицца и не герань везде. Это, в общем, довольно холодно, руки мерзнут, люди более или менее прячутся. И если они чинят что-то, это совершенно не picture rest, это совершенно не зрелище, это необходимость. И мне это колоссально понравилось здесь, да.
А: Ощущение «после праздника»?
ИБ: Да,да. Приходится мыть посуду.
Рейн читает ИБ только что написанные стихи
ИБ: Что-то ты у нас написал, да?
ЕР: Да
А: Замечательные стихи.
ЕР: Я не знаю, мне не кажется. Называется «Памяти N»
«Крестовский остров. Воскресенье.
Венеция. Воскресный день.
Какое чудо-воскресенье,
Какая праздничная лень!
Я сдал зачет и вышел к лодке,
Еще хозяин лодки жив.
Отчаянные одногодки отчаливаем мы в залив.
Гребем навстречу нашим судьбам,
Фортуна мелет дребедень,
День будет долгим, будет судным -
Субботний и воскресный день.
Что впереди? А там Сан-Марко!
Что крематорий? Зачернен.
- Плыви! Мне ничего не жалко-
Так, вероятно, начал он.
-Живи теперь до самой смерти,
Причаль к Пьяцетте поутру,
Меня ж задерживать не смейте.
Я через 8 лет умру"
ИБ: Ну это напрасно, вот…
ЕР: Это другой говорит
ИБ: Все равно
Про Набережную неисцелимых и эссе
ИБ: Ну, прежде всего, просто уже потому, что понравилось. Несколько раз в этой жизни я нарывался на такие места, которые назывались….то есть названия-имена.
Я помню в Таллинне…. - ты это наверняка помнишь- в Ужгороде есть место, которое называется Башня служанок. Ничего не надо писать, уже все есть, да. Вот и Набережная неисцелимых. Это про таких, с которыми, в общем, ничего уже нельзя поделать. Мне понравилось, я не знаю почему.
А: А неисцелимые-кто?
ИБ: И живые и больные, то есть - и нормальные и здоровые и больные.
***
ЕР: Это что, кафе?
ИБ: Вот здесь кафе будет, сейчас, да. Вот хорошее название – Мост Скромности, да?…
ЕР:… Баратынский очень хотел увидеть Италию, кстати
ИБ: И увидел
ЕР: Увидел в гробу
ИБ: Неправда. Почему?
ЕР: Ну как, он доехал до Неаполя…
ИБ: До Неаполя и умер. Ну, то же самое Китс.
ЕР: Великое стихотворение «Пироскаф».
ИБ: То есть самое великое стихотворение его не «Пироскаф». Самое великое стихотворение его - это «Дядьке-итальянцу».
ЕР: Я знаю, да.
ИБ: Это потрясающие стихи…человеческое содержание «Дядьке-итальянцу» совершенно феноменальное. То есть Баратынский воспитывался… -я вам конец прочту потом…-и ну вот...Капитанская дочка, значит, так вот…(неясно)… дядька-итальянец, Жьячинто Баргези, совершенно банальное имя,да. Который, значит, бежал от Наполеона, когда Наполеон вторгся в Италию довольно много, и он промышлял тем, что он еще пытался продавать итальянские картины (читает стихи:
«Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,
Янтарный виноград, лимон ее златой
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,
И в край, суровый край, снегами покровенный,
Приставший с выбором загадочных картин,
Где что-то различал и видел ты один!
Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,
Где брату вашему всех меньше спекуляций.
Никто их не купил. Вздохнув, оставил ты
В глушь севера тебя привлекшие мечты;
Зато воскрес в тебе сей ум, на всё пригодный,
Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!
Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал
Почтенный, для тебя богатый генерал,
Чтоб, в силу строгого с тобою договора,
Имел я благодать нерусского надзора.
Благодаря богов, с тобой за этим вслед
Друг другу не были мы чужды двадцать лет»)
И потом он становится в семье этого генерала-отца Баратынского –значит, дядькой. Это длинное стихотворение, но кончается оно, тем - он рассказывает - там он возил его по Москве, этот самый дядька, да, то есть потому он всех макаронщиков тогда узнал, было много пиццы, пиццерий. Вот… (читает стихи)
Замечательные стихи. И кончается - Жьячинто Баргези умирает. Это стихи о смерти Жьячинто Баргези. Это последние стихи Баратынского. И после этого Баратынский умирает сам. Все, что хотите, тут вычисляйте, да. И там кончается…боже, что со мной происходит…(вспоминает стихи:
«О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!
Лелей по-своему твой подземельный сон,
Наш бурнодышащий, полночный аквилон,
Не хуже веющий забвеньем и покоем,
Чем вздохи южные с душистым их упоем!»)
ЕР: Да, может быть,ты прав, может быть, это лучшие. Но вообще он великие стихи писал.
ИБ: Нет, ну что он там про Байрона пишет, что пишет про Наполеона, то есть…
Это стихи ужасно интересные, потому что география, топография, реальность, да, она все еще держалась, то есть трактовалась в каком-то условном поэтическом ряду. Баратынский первый, который переводит географию и реальность, да, то есть он пользуется ею буквально, да, то есть он описывает реальный мир, то есть там…
Дело в том, что вообще все эти разговоры о русской романтической традиции и так далее и так далее - это, в общем, полный бред. В русской поэзии…то есть никто не был романтиком. Русскую поэзию от романтизма излечил один человек- Гоголь, да. После Гоголя -потому что все они пришли после Гоголя, да – уже романтиком было быть нельзя. Невозможно. Да. Даже у Лермонтова это не получилось, даже….Ну это неважно. Это был…то есть Баратынский был из них самый трезвый, самый трезвомыслящий господин. Это поразительные стихи. То есть и настолько…то есть в них колоссальный, как бы сказать, ну чисто поэтический пророческий элемент. То есть когда он,например… то есть он предтеча всего – сюрреализма, как это ни называй.
У него стихи есть замечательные о смерти как устроителе всего на свете (читает вместе с Рейном). Поразительные стихи. До конца мне неохота.
О венецианских церквях и русской иконе
ИБ: О церквях что я вам хочу сказать. Их довольно много здесь, как вы могли, наверное, заметить, да. То есть почти каждые там, скажем, 20,30, ну или по крайней мере 100 или 200 квадратных метров, существует церковь. Я не знаю о чем это свидетельствует, то есть речь идет, разумеется….ну это католическая страна и так далее и так далее. Они в разное время строились, все как полагается. Но я думаю, что все это –это моя фантазия, я не знаю этого наверняка, да – то есть может быть я абсолютно не прав – что это объясняется следующим обстоятельством.
Дело в том, что Италия, как и Голландия – то есть две такие страны –это две страны, которые избежали индустриальной революции, то есть когда…то есть более того, Италия избежала объединения. Италия это страна чрезвычайно личная, то есть это страна, где, скажем, государство, партия, идеология и даже, в конце концов, церковь не играют роли. Единственный главный объединяющий, как бы сказать, элемент-это семья. И все церкви, все церкви, которые, значит, вы видите, они, в общем, более или менее дела семейные. Это не потому что человек замаливает грехи, но вот в каком-то районе, в каком-то участке, да, живет какое-то количество людей, которые предпочитают ходить в эту церковь, да, чем…то есть это такие, как бы это сказать, Монтекки и Капулетти, но на уровне…это как, в общем, домашняя часовня, до известной степени.
Может быть, главное оправдание церкви вообще историческое, грубо говоря, тут я уже скажу сейчас что-нибудь чудовищное - и даже не совсем то, во что я верю –это то, что она как бы оказалась полем приложения искусства, да. То есть, кто работал на церковь, да, то есть, кого она поддерживала. Кстати сказать, я вам расскажу довольно интересную вещь – вы знаете - какой самый дорогой цвет, какая самая дорогая краска в живописи?
ЕР: Потрясающе интересно. Какая?
ИБ: Ну как ты думаешь?
ЕР: Кармин?
ИБ: Нет.
ЕР: Индиго?
ИБ: Почти. Близко
ЕР: Ультрамарин?
ИБ: Ультрамарин, ага. Почему это происходит? Потому что ультрамарин, кобальт, да, его в Европе не было, и его возили, ну, естественно, из Индии и так далее и так далее. И поэтому вы оцениваете… вы понимаете… -то есть, по количеству голубого, по количеству кобальта во фреске или на полотне, да, вы можете себе представить о богатстве патрона, да, который заказал себе это, или о богатстве этой церкви.
Дело в том, что в 16 веке… – то есть тут один мой такой, в общем, даже знакомый, раскопал одну довольно замечательную вещь – он в архивах, в Сиене нашел контракты всех великих живописцев 16 и 15 веков. И там все очень четко оговорено – сколько унций там кармина, сколько унций кобальта и так далее и так далее. И в зависимости от богатства…..То есть совсем не золотой цвет- это как бы расхожая вещь, да. И там всегда оговаривался сюжет, всегда оговаривалось количество фигур и количество краски. И художник… в общем, почему они работали целыми мастерскими и так далее и так далее- это было действительно предприятие и так далее и так далее…Но самое очень интересное действительно в том, именно в том, что церковь явилась таким как бы приложением.
Это, в конце концов, картинная галерея во многих отношениях, да. То есть раньше же этого не было особенно, да. И особенно этого не было на популярном, на народном уровне, что называется, да. То есть, если какой-нибудь, там скажем, дворянин или владелец дворца мог себе это все заказать и так далее и так далее, и повесить на стены, простой человек этого более или менее… то есть был на это не очень способен. И он шел в церковь.
Не говоря уже о том, что оформление церкви, по существу это – если рассматривать все это на таком 15-го века –16-го века уровне – это, в конце концов, ренессансный эквивалент, если угодно, телевидения. Поэтому столько событий в церкви, да. Вы можете приходить и смотреть и смотреть и смотреть и смотреть, да. То есть вы все время вертите головой, то есть не вертите головой, можете даже сосредоточиться. Я даже вам еще больше скажу. Каким образом это все вписывается в русскую иконопись.
Дело в том – это уже полная моя фантазия и, видимо, я себя навсегда тем, что я сейчас изложу, погублю, но самое главное в русской иконе –это, по –моему, именно нимбы. Потому что нимбы – особенно когда вы попадаете… когда вы оказываетесь в церкви, где огромный алтарь, масса икон и так далее и так далее –электричества, как вы помните не было и поэтому это все освещалось свечами… И потому нимбы – вот эти полукружия – когда вы находитесь в церкви, когда вот этот самый огонь свечей колеблется и так далее и так далее – они в некоторой… то есть, на хороших иконах они приходят в движение. То есть, возникает движение, да. И это колоссальный экстатический или подсознательный, какой угодно – можно даже сказать, что и метафизический – момент.
Как наш общий с Евгением Борисовичем приятель, попав, значит, на Запад и начав ходить по этим самым, значит, попадая в разные церкви, - ты знаешь о ком я говорю и сколь он большой специалист по этой части - он, значит, написал где-то в «Русской мысли» о том, как холодны западные церкви и там не намоленный воздух.
ЕР: Да.да.
ИБ: Да. За это надо бить морду, по-моему.
То есть, потому что совершенно неважно, кто был до тебя в церкви и кто будет после тебя. Начать с того, да. Я где-то, по-моему, в «Фундаменте» это все описываю. Там одна Мадонна... Там есть вот этот…. когда она держит младенца и его левая пятка…она почти касается ладонью, но не касается, и здесь… - вы знаете в русской живописи, в русской иконописи это всегда передается щекой Мадонны и щекой младенца – когда они касаются друг друга, да, - здесь это совершенно другой ход. То есть интенсивность нежности в этом неприкосновении совершенно фантастическая. Я не знаю, как объяснить. Ну как вообще все это можно объяснить, да.
То есть это как… ну я не знаю….не знаю, с чем это сравнить…это вот как лежишь в поле и смотришь на звезду. И никого между тобой –ты и звезда, да. И никаких посредников, да. Тет-а-тет, да. Вот. И вот это ощущение там.
PS Лагуна
Читает стихотворение:
«…Там, за нигде, за его пределом
-черным, бесцветным, возможно, белым –
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет»
P.S. Текст приводится без стилистических правок.
Приношу извинения за возможные синтаксические и прочие ошибки. Старалась,но вдруг:))
|